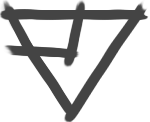Остановись сейчас и крутани калейдоскоп воспоминаний. Среди сапфировых и изумрудных стёклышек тебе попадётся осколок багрянца. Ты вспоминаешь как это было? Хвойная свежесть соснового бора, июнь. Ты выходишь из владений Лесного Царя, из перекрестья синих и лиловатых теней, на поляну, сплошь усеянную земляникой. В алом море лишь несколько завитков трав. Ступая будто сквозь сладкий сок, ты спускаешься к шумному ручью. Берега его усыпаны голубыми пенными брызгами. Нет… Это облачка незабудок! Слушая звонкий рассказ извитых струй и болтая ногами в прохладной воде, ты пьёшь до дна чашу всех радостей жизни: набираешь горсть земляники и, пьянея, вдыхаешь дурман покачивающихся белых венчиков таволг. Ты замираешь на мгновенье и закрываешь глаза…
Из картонных облаков сочится жиденький свет. Город — грязный и гротескный — утопает в газетных обрезках. Люди зачем-то носят маски: безразличные или изуродованные гримасой. Они прячутся от дождика — будто маски их из гипса и растают, скрываются от холода — будто они растрескаются и осколки унесёт ветер. Я сижу на скамейке, вся тусклая и вялая как холщовый мешок. О, город, ты пьёшь мою душу! Раз коснувшись гниловатым языком, ты не можешь помыслить и дня без лакомства. То, смакуя, тянешь мелкими глотками, то, задыхаясь от жадности, захлёбываясь, торопишься проглотить меня всю. В один миг Провидение пытается утешить меня — объятый ветром закружится вихрь кленовых листьев на мостовой. Будто мираж из другого мира: жёлтый, оранжевый, розовый, алый… И я вся там — нет страха и боли. Там я решаюсь произнести слово “счастье”.
Под моей белой татуированной кожей им не разглядеть души, а только пользу и качество. Светлая, дышащая, мыслящая, освящённая актом Творения, она остаётся невидимой для них за волокнами, так удачно гибкими, прочными и узорными. Они не видят моего рта — и отказывают мне в голосе. Не замечая моих следов, отрицают способность двигаться. Не понимая моей философии — они не могут увидеть разум. Моё безмолвие, бессловесную недвижность они засчитывают за согласие, покорность, готовность. Не находя упоминания обо мне в реестрах своих священных книг, они заключают, что я отлучена от бессмертия. У меня нет их видов рецепторов — я не почувствую боль, не имею я такого же лица, чтобы оно исказилось. Не посмотрю на них укоряющим взглядом… Поэтому кому какое дело, когда посреди торжества расписанного под хохлому октября, тренькнув, блеснёт солнечный зайчик на взлёте, и топор вонзится в моё тело? В берёзовую плоть.