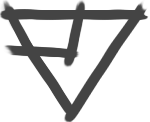Ещё одна неудачная попытка. В скомканной бумажке было не просто имя. Ты осмотрел меня с ног до головы и облёк чернила в плоть. Ты создал меня, и назвал. И позвал. С самого начала я не знала, что для чего-то нужна. Я не могла “просто принять мир”, ведь и не было модели иного существования, всё моё бытиё – уже ты. Наши разговоры и опыты были игрой. Тебя интересовала моя сила, фантазия, агрессия, моё зрение, мой иммунитет. Я была твоей, поэтому спокойно легла под нож, замерла на хирургическом столе, молча глазела в потолок, когда ты раскрывал мои тайны, делил меня на части и складывал эти части по полочкам. Онемела кожа, белки глаз подёрнулись радужной плёнкой, и в сливное отверстие стола убегала кровь, смешанная с чернилами. Я нема и безоружна для тебя, такой ты меня сотворил; как бы тебе не мнилось, что я враг, и тело моё надобно сжечь и прах развеять на перекрёстках. Я всего лишь бесконечно влюблённая в тебя сестра-близнец, последыш.

Закатные лучи низко, плотным слоем, ложились на траву, дома тонули в них по горлышко, вставали га цыпочки. Захлёбывались стрекозы, большие и блестящие. И садились на верхушки крыш. Дышали ветра над водой. Счастливая утопленница неведимкой проходила по улицам, временами становясь тонкой, как папиросная бумага, чтобы протиснуться между не замечающими её людьми. Она видела близко их блуждающие взгляды: гладкие глазные яблоки лениво вращались, как маринованные оливки; солнце накладывало слепые лаковые блики на них и очерчивало на лице каждую пору-кратер ослепительной рыжиной. Ей становилось тошно от их дыхания, бессмысленными казались переваливающиеся тела. Ещё чуть-чуть и случится забыться самой, и останется просто перекатываться и переваливаться – клок газеты. Глотнув света над макушками в толпе, она скользнула в боковой переулок, пошла прочь от города и дальше “стрекозиных” домов. Там, на пустыре, она вечерами хоронила птиц. Держа их в ладонях-лодочках, о чём-то шептала на прощание. Возможно, о том, как целыми днями шьёт крапивные рубашки…

Каждый раз, когда тугие слизни человеческой очереди вползают в чёрные глотки подъездов, терминалов, переходов, поездов, где-то один человек, взяв кисть и масло, рисует выход – прохладу, сирень и ранние звёзды. Когда он пальцем проводит по округлым мазкам, и ему чудится, что пахнет маем, человечество проходит сквозь рамки металлоискателей, и самолёты его мчат по распахнутым небесам. Они пристёгнуты и сжаты в железной капсуле, которая оберегает их жизни, пока не откроется уже перед трапом, металлоискателем, стерильными кишками коридоров и переходов, залов, подъездов… В это время один человек видит музыку – глубокого синего цвета, с каплей одиночества, бархатную, чуть торопливую, иногда замирающую и вспархивающую. Его музыка – без начала и конца. У картин нет рам, река поэзии, как и Лета, замкнута на себя, руки мастера не устают ласкать мрамор. Если замереть и приглядеться, то прямоугольные границы отступают. Это как-будто ты ослеп: фигурка как точка отсчёта, вокруг которой внезапно разливается пространство без границ. навсегда в бессмертии. То есть там, где нет предыдущей ступени и не будет следующей остановки. Ты – пылинка, там – мир.