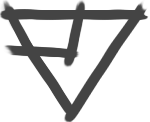Его видели ночью рядом с повесившейся мельничихой и на околицах, где резвились дети – с одинаковым невесть что выражающим взглядом круглых немигающих глазах. Оно смотрело на них издали, и кровавая пена капала изо рта. С равным интересом оно наблюдало петушиные бои на ярмарках и игрища на Ивана Купала. Не одна прихожанка в экстазе молитвы, нечаянно глянув в окно, замечала снаружи чудовище. Светлый просторный купол полнился золотистыми пылинками и тихим бормотанием, а оно вглядывалось в склонённые фигуры. К худу – увидеть его на сжатых полях, у болот и лодочных сараев. Крестьяне в суеверном невежестве почитали чудовище местным божком, потому как никто не видывал, чтоб нападало оно, но, порой, при стечении обстоятельств, а правильней думать, из-за греховных деяний, приходили напасти в деревню. Стало быть, мало страха выказывали.
Но дело было не в этом. Чудовище бродило из деревни в деревню, от хутора к хутору, чтобы наполняться. Мелькали луны, сосны, верстовые столбы как кресты и пустые тропинки. Подчиняясь заклятью, чудовище вырывало себе язык, и как прометеева печень тот со временем отрастал снова. Чтобы быть вырванным опять. Чудовище впитывало жизнь, наполнялось ею, она заливалась в его глаза, текла к его осиротевшему рту, чтобы отныне излиться кровью. И тогда оно писало сказки на стенах своей берлоги, концентрированные и сыпучие, как стеклянная крошка, писало их этими чернилами.

Они говорили “Уверуй!”. В жилище первой обращённой были большие комнаты с жидкими стенами, кипели озёра асфальта, и глубин никогда не мерили эхом. Зацепляя золотистыми нитями темноту, бежали трещины в остывающих корках. Рёв огня в трубах, живой и пульсирующий, полировал чугун. Обманчиво тонкими казались ангелы (от иного мира была их тяжесть). Прозрачными стопами шагали по лаве, прозрачными ладонями подпирали потолки. Столпы света и серного дыхания зеленоватыми колоннами окольцовывали их с правоверной. Там Лидию кормили битым стеклом. Крик шлифовал её горло. Вода текла, смывая с тела свежую кожу, оставляя выцветшую. С краёв котла капали секунды и уплывали вверх по реке. Губы на безвольном оцепеневшем лице шептали (визжали): “Верую”. Скрюченные ангелы по очереди склонялись и целовали эти губы, запечатывая признание внутри. Паутина проступала на ожогах, покрывая куколку и её домик освящённой белизной. Скоро ей, светлой и накрахмаленной, вылупляться. У чистой, почти бумажной, фигурки будут воспалённые бессонные глаза. Но даже они будут светиться верой. В полуопущенном взгляде будет вера.

Помнишь, сколько веков мы старались запомнить, будто правило детское: поиграл – отдохни? Пастырь сломанных кукол в зелёных одеждах выбирает дорогу, ведёт по нетопкой. Череда фонарей намокла росою, покатились шаги вперёд словно с горки. А тропинка всё шире, всё ниже и глубже. Оглянуться вокруг уже будто неловко – всюду только усталые лица. Не мои, не родные, с чужою печалью, серым мелом расчерченной по морщинкам. И растаяли в небе поминальные свечи, и не будет нам теперь огонёчка. Нету хода в земле, кроме тех, что вползают через двери гранитные, после стука и шёпота. Положи на прощанье мне на плечи ладони. Память касанья – желаннейший груз. Загадай мне звезду, подари её пастырю, чтоб до светлых полян довёл нас в сохранности. Долго, долго идти, не вздыхать и не охать. Впереди ни души, сырость, клочья и тьма. На груди мы баюкаем кроху-надежду, что торопится, пьёт сладкой памяти сок. И румянится крошка, крепнет, теплеет. Поводырь наш несёт в пригоршне свет. Отдохнут в чистых водах наши ноги истоптанные, обласкают виски подушки из клевера. Там, где радуга зреет, не помнятся слёзы – сколько было и сколько не было их. Загадай, чтобы пела нам флейта нездешняя, чтобы солнце как мёд проливалось на веки. А мы будем любовь к вам собирать по крупиночке, чтоб на небе сияла точно звезда.