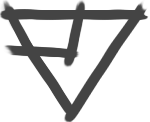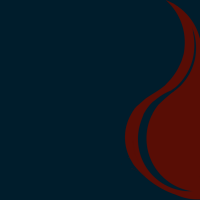
А я сама видела этот берег. Он действительно столь горек и пустынен, как о нём говорят. На шершавых скалах в язвенных пятнах лишайника громоздится её дом – потемневший и изгрызенный временем и солёными челюстями морских дождей. Всё имение вокруг затоплено, беснуются волны, замыкая в кольцо эту разбитую крепость. Набухли старые стебли, горячие как вены; тощие рябины с засохшими гроздями мечутся на ветру, и, почти ураганные, порывы хватают брызги и пену и бросают к окнам и стопам дома. В чёрно-синих тучах надрывается сирена, предупреждающая о бомбардировках. В вышине над мезонином господствует древний мираж – жестокое, бледное, слепое лицо: замершие спёкшиеся веки и грубо прорезанный рот. Оно излучает холод, ярость и скорбь.
Хочешь найти там жизнь? Она есть. Порой видно блуждающий в глубинах и угнездившийся в мезонине дрожащий огонёк свечи, даже можно различить её багровое платье. Она вглядывается в лицо… Я не жалела бедняжку. Все знают, почему.

Ночью его игрушки оживали, ходили по Царству-На-Каминной-Полке – расписные, глиняные, восковые, деревянные. Красовались, танцевали, выдумывали разные игры, в ясные ночи смотрели на звёзды в окне напротив. Восковая фигурка пастушки была неудавшейся: слегка перекошенной, с облупившейся глазурью. Яркие – только фартук и эмалевая шерсть её пёсика. Она почти не подходила к краю полки, оставаясь в тени, но, однажды, решилась приковылять к толпе. Попытка не была ни самой плохой, ни самой хорошей, какую она могла вообразить. Кто-то смеялся над ней и сторонился, кто-то терпеливо вышагивал рядом в экскурсии по стране, подбадривая её мечтами о дальнем-дальнем путешествии. И с каждой ночью жизнь её менялась и становилась чуточку лучше. Однажды, к утру она осталась среди нескольких блестящих игрушек в первом ряду и видела особенный золотистый утренний свет. В комнату вошла служанка нашего старого и сентиментального мастера. Она смахивала пыль, когда лицо её сморщилось от неприязни и усмешки. Восковую фигурку бросили в каминную пасть. Мораль? Слова о загоревавших добрых и захихикавших зловредных игрушках, о печали мастера, о памяти? Нет, их не будет. В пасти и был конец.

Розарий дремал, и пионы тоже. Мир был тих и уязвим. Созвездия росы сверкали тут и там. Воздух приятный, чуть приторный, похож на земляничный крем. Рассвет всё-таки. В груди на месте сердца у меня всегда была фарфоровая фигурка – балерина, вращающаяся на ржавой спице в музыкальной шкатулке. Бледное личико в сеточке трещин.
Однажды, рука попыталась вторгнуться в мою душу, я остановила её. Но глаза, показавшиеся мне знакомыми, были добры и ласковы. Тогда я разрешила аккуратно взять моё сердце. Человек осмотрел лишь детали и механизмы. Ему был интересен только сухой остаток, кпд. Это задело меня, всегда трепетавшей перед чудом. Я потянулась, чтобы забрать моё сокровище, но оно выскользнуло из наших рук. Человек с виноватым видом подал мне осколки, опустил глаза и без слов удалился. Я не знала, что так бывает. Без звука произошла трагедия, и, казалось, ничто не изменилось вокруг; только осколки резали грудь, да сердце хрипело искорёженную мелодию. Но неуловимо… чуть сдвинулись полюса. Атмосфера сгустилась и затуманилась, роса осыпалась инеем с еловых иголок на льдистые лепестки. Паутиной изморози покрылся и навсегда остался ни жив, ни мёртв, мой мир. Молчит розовый сад…