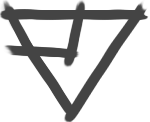Контакт. Выбеленные стены моей комнатки будто покачнулись от удара. Мне показалось, что я в монастырской келье, и светлый сухой воздух, как саван, сползающий в гроб, утягивает за собой бирюзу майской листвы сквозь кованую решётку на выметенные доски пола. С того конца телефонного провода в трубку текло молчание и капало гудками, скапливалось водою в моих глазах. Слёз уже натекло по колено.
Инфицирование. Человек это жестокое существо, но не потому что совершает жестокость, нет – убивают, мучают и играются даже звери – а потому, что в отличие от животных может чувствовать. Он может оскорбиться, его пронзает обида и боль. Человек жесток по-особому. Это как сказать: “ты болен”. “Ты жесток”. “Ты был ожесточён”. “Ты атакован жестокостью”. Но даже зная особенности чужой болезни, всё же сложно превратиться в собаку и уткнуться носом в ладонь, которая ударила. Особенно, если ледяной воды уже по шейку, и соль запекается на губах. Только я до последнего не разжимаю телефонную трубку. Когда комната будет наполнена, наконец не будет слышно этих жестоких гудков.
Инкубация.
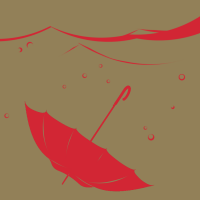
Перекошенные тротуары заливало, каналы разлились, и просели высотки. Прогрызенный суматохой город начал тонуть, промокать насквозь, как пустая шелуха. Между бетонных оболочек сновал хоровод гула и конечностей – людей, которые издавали законы, писали жалобы, бормотали молитвы и глотали таблетки. Многие потуже затягивали дождевики, мысленно торопили светофоры и часы, спорили что есть силы и пили, чтобы справиться с наваждением. Ведь сказано: впереди светлые дни, ныне Эпоха Цветения. Подумать только, мы столь упрямы, что не верим, даже когда вода скрыла наши макушки, наши зонты, наш Вавилон. Люди ждали перемен, но они не приходят морской водой, они не вольются сладкой негой в осипшие от бессмысленного крика сердца, в высохшие черепа и голодные кошельки. А может, следует перетерпеть? И пожить дряблыми утопленниками, попробовать погулять за руку с пустыми и молчаливыми детьми и не замечать склизкого налёта на зеркалах. “Главное – верить” скажет священник и предложит пару хороших калош. Нынче в моде реликвии, солипсизм и консервы! Ты просишь и просишь о переменах, но вечером всё же пришиваешь кожу обратно к телу, сжался внутри своей шкурки, как подросший детёныш в куцем чулке. Не зови птиц, их нет над морем.

Все реки и ручьи мира вливаются в вены, скоро они меня разорвут…
Насколько я могу судить, это всё она виновата. Когда заглядываешь с гранитного балкона к ней в логово, тебя встречает особый дурман: дым, сладкий ладан, ром, лилии и темень. В глубине тяжёлого зелья ворочается сгусток – паучиха с чёрным раздувшимся брюхом ползает по мебели и стенам, оставляя липкий светящийся след. Я пробовала с ней договориться, но меня пугали судороги, сотрясавшие её набитый живот (что же она пожрала во мне?). В итоге всё кончалось тем, что я, отравленная и ослабевшая, сползала по холодным ступеням в сад, облитая собственной рвотой, и одуревшими глазами смотрела на блёклое звёздное небо, с которого она шершавыми лапами смыла жирное пятно луны. Через год я научилась её шипящему языку и даже подпевала ей как под гипнозом. И вот поэтому я стала блуждать и видеть в своей пропасти странные, но чудесные вещи. Век, которого боюсь, век, которым очарована. Мир переменился. Такие далёкие, и такие чуждые, одна за другой во мне прорастают звёзды, убивая частичку меня. А люди говорят, что так не бывает.